Невроз, обустройство жизни, государственное устройство
Якоб Клези
I
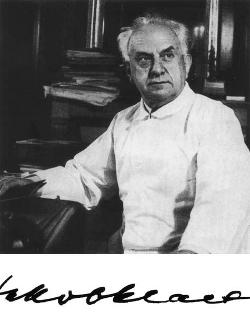 Что за конфликты стоят за невротическими проявлениями? В двух словах – это конфликт между инстинктом самосохранения, стремлением к наслаждению и радости, с одной стороны, и стремлением к строгому исполнению долга, к самопожертвованию, с другой. Всем известно, что у нас есть пищевой инстинкт, половой инстинкт, инстинкт движения и какой-то деятельности, возможно даже, инстинкт самоутверждения – если мы его можем назвать инстинктом, ведь у него отсутствует физический коррелят инстинкта. Но дело в том, что люди идут по жизни не в одиночку, а как члены большого сообщества. Мы должны быть для этого сообщества полезными или, по меньшей мере, сносными, а природа позаботилась о том, чтобы сделать нас сносными, если уж не полезными: у нас есть инстинктивное стремление к тому, чтобы быть членом сообщества, включиться в него, жертвовать чем-то для него, а также чтобы раствориться во вне- или над-персональном. Песталоцци назвал это инстинктом делать добро, а мы теперь называем социальным инстинктом. Выражается он не только в стремлении повиноваться и отдаваться – а это очень важно для понимания неврозов – в сдерживающих факторах, которые мы противопоставляем беспардонному проявлению наших эгоистических инстинктов (пищевого, полового инстинктов, стремления к самоутверждению и т.д.). Я уже в течение восемнадцати лет утверждаю в своих лекциях, что этот социальный инстинкт возник не под воздействием воспитания, более или менее хорошего и заботливого, а вследствие врожденных задатков, направленных не на достижение наших личных интересов, а на благо ближних и общества в целом. В состоянии болезненной изоляции противоречие между социальным инстинктом и инстинктами «Я», которое обычно проявляется в сдерживании нашего стремления к наслаждениям ради интересов общества, может проявляться даже таким способом, что больной против своей собственной личности начинает настоящую войну. И здесь дело доходит до поступков, кажущихся совершенно бессмысленными: больные кусают самих себя, отказываются от еды или едят собственные экскременты. Аналогичное поведение встречается и у здоровых, у некоторых бывают припадки этического рвения, и такие формы принимает аскеза или самоистязание. Другими словами, там, где нет возможности для проявления социального инстинкта (делать добро, отдаваться), как, например, на необитаемом острове, в тюрьме или психиатрической больнице, при шизофрении или при невозможности проявления этого инстинкта по политическим причинам, у этически сильно предрасположенного к этому индивида может возникнуть перверсия социального инстинкта, как и других жизненно важных инстинктов в периоды насильственного подавления. Целесообразный тормоз, направленный против эгоизма и своекорыстия субъекта, превращается в систему принципов и привычек, направленных на выключение и приглушение радости жизни, на самоистязание и самоуничтожение.
Что за конфликты стоят за невротическими проявлениями? В двух словах – это конфликт между инстинктом самосохранения, стремлением к наслаждению и радости, с одной стороны, и стремлением к строгому исполнению долга, к самопожертвованию, с другой. Всем известно, что у нас есть пищевой инстинкт, половой инстинкт, инстинкт движения и какой-то деятельности, возможно даже, инстинкт самоутверждения – если мы его можем назвать инстинктом, ведь у него отсутствует физический коррелят инстинкта. Но дело в том, что люди идут по жизни не в одиночку, а как члены большого сообщества. Мы должны быть для этого сообщества полезными или, по меньшей мере, сносными, а природа позаботилась о том, чтобы сделать нас сносными, если уж не полезными: у нас есть инстинктивное стремление к тому, чтобы быть членом сообщества, включиться в него, жертвовать чем-то для него, а также чтобы раствориться во вне- или над-персональном. Песталоцци назвал это инстинктом делать добро, а мы теперь называем социальным инстинктом. Выражается он не только в стремлении повиноваться и отдаваться – а это очень важно для понимания неврозов – в сдерживающих факторах, которые мы противопоставляем беспардонному проявлению наших эгоистических инстинктов (пищевого, полового инстинктов, стремления к самоутверждению и т.д.). Я уже в течение восемнадцати лет утверждаю в своих лекциях, что этот социальный инстинкт возник не под воздействием воспитания, более или менее хорошего и заботливого, а вследствие врожденных задатков, направленных не на достижение наших личных интересов, а на благо ближних и общества в целом. В состоянии болезненной изоляции противоречие между социальным инстинктом и инстинктами «Я», которое обычно проявляется в сдерживании нашего стремления к наслаждениям ради интересов общества, может проявляться даже таким способом, что больной против своей собственной личности начинает настоящую войну. И здесь дело доходит до поступков, кажущихся совершенно бессмысленными: больные кусают самих себя, отказываются от еды или едят собственные экскременты. Аналогичное поведение встречается и у здоровых, у некоторых бывают припадки этического рвения, и такие формы принимает аскеза или самоистязание. Другими словами, там, где нет возможности для проявления социального инстинкта (делать добро, отдаваться), как, например, на необитаемом острове, в тюрьме или психиатрической больнице, при шизофрении или при невозможности проявления этого инстинкта по политическим причинам, у этически сильно предрасположенного к этому индивида может возникнуть перверсия социального инстинкта, как и других жизненно важных инстинктов в периоды насильственного подавления. Целесообразный тормоз, направленный против эгоизма и своекорыстия субъекта, превращается в систему принципов и привычек, направленных на выключение и приглушение радости жизни, на самоистязание и самоуничтожение.
Тем не менее, я не говорю в подобных случаях о социальном инстинкте, и вот чему: известно, что существуют индивиды, у которых отсутствуют какие бы то ни было моральные, я бы сказал, социальные, чувства. Это морально ущербные люди. И всё же они способны порой на приступы альтруизма, и невроз у них говорит о противостоянии альтруистических и эгоистических побуждений. Если мы говорим о социальном инстинкте, то должны будем предположить, что у какого-либо человека он имеется как стабильная, всегда одинаковая предрасположенность, а у морально ущербного ее нет. Кроме того, термин «социальный инстинкт» предполагает отношения с объектом – социумом, в то время как нам известно, что у невротика и душевнобольного с нормальными социальными отношениями, да и у здорового тоже, встречаются влечения и действия, не являющиеся социальными в привычном смысле слова; они, скорее, коллективистские. Например, трапеза служит не только для насыщения, она может быть и коллективной игрой, некоторые люди при определенном настроении не будут есть в одиночестве, они приглашают кого-то поесть вместе с ними. Иногда они пытаются таким образом доставить другому удовольствие. Поэтому, акцентируя внимание на субъекте, являющемся, в сущности, главным действующим лицом наших психопатологических исследований, я заранее объединяю все альтруистические побуждения, независимо от того, являются ли они одиночными (у морально ущербных) или коренятся в стабильной инстинктивной предрасположенности, и независимо от того, удовлетворяют ли они социальный инстинкт или потребность быть членом какого-то коллектива, в понятие аристофорные (греч. «лучший, благороднейший») инстинктивные побуждения и действия. Это понятие шире, чем «социальный инстинкт», и уже, чем «либидо» ФРЕЙДА. Аристофорным побуждениям я противопоставляю кратофорные (греч. «сила»), служащие удовлетворению потребностей собственной личности (пищевой, половой инстинкты, потребность в самоутверждении) и, тем самым, потребности в наслаждении.
Вспомним теперь, что в начале нашего исследования мы характеризовали неврозы как функциональные физические и душевные нарушения, вызванные душевным конфликтом. Об этих конфликтах мы сказали лишь в общих чертах, что они коренятся в противоречии инстинкта самосохранения, стремления к наслаждению, с одной стороны, и стремления строго исполнять свой долг, отдаваться и жертвовать – с другой. Теперь мы можем дать следующую формулировку: невротический конфликт состоит во взаимном сдерживании кратофорных и аристофорных инстинктивных побуждений и волевых действий, причем это сдерживание может давать сбои в ту или другую сторону, и тогда случается порой, что больной создает ценные творческие произведения, но это преходяще и периодически и требует колоссальных энергетических затрат больного. Прямым следствием этой борьбы является то, что инстинктивная, исходящая из более или менее единой воли способность понять (вчувствоваться в) внешнюю ситуацию и интуитивная способность к приспособлению к этой ситуации подтачивается и разрушается постоянными сомнениями. Впоследствии эта интуитивная способность заменяется интеллектуальным пониманием и оценкой, при этом возникают новые сомнения, неуверенность и сдерживание (барьеры), поскольку наш мыслительный аппарат не настолько надежный инструмент, как вырастающее из инстинкта «чувствование»; деятельность мыслительного аппарата подвержена разнообразным нарушениям. Так, невротик постоянно мечется на пути к принятию решения от кратофорного к аристофорному полюсу и обратно. В отличие от душевнобольных (шизофреников), у которых амбивалентность (позиция «да-нет») выходит на передний план в картине заболевания, невротик сохраняет чувственную связь с внешним миром, он сохраняет критику по отношению к своей позиции и осознаёт нарушения, характерные для этой позиции. Но невротик останавливается на полпути в выборе решения. Если ему надо выбрать «правый» или «левый» путь, он не решается ни на то, ни на другое, ни на что-то третье. Он выбирает середину, но не золотую середину, а «невротическую». Если он задумает служить интересам общества или своим собственным, то уже спустя несколько шагов он начинает сомневаться и уставать, и эти сомнения зачастую скрыты и видны лишь посвященному врачебному взгляду. Понятно, что эта усталость и скованность больного, основанные на подобной неуверенности и сомнениях, вызывают игнорирование инстинктов, подавление их и их отклонения, а выражаются они, как мы уже указывали, во всевозможных перверсиях и войне с самим собой. Признаками такого насилия над собой и противоречивости являются, с одной стороны, навязчивые импульсы, навязчивые мысли и навязчивые действия, представляющие собой не что иное, как акты самозащиты подавленных жизненно важных инстинктивных побуждений и, с другой стороны, опасения больного, что он не сможет выразить себя и не способен жить – опасения, приводящие то к тенденциям выключения (ипохондрия из нежелания и отвращения, функциональные нарушения, мысли о самоубийстве), то – или одновременно – к боязни подобных тенденций выключения (ипохондрия из страха не справиться с жизнью, страха функциональных нарушений, несчастного случая или внезапной смерти). Однако, отвлечение внимания от истинных причин страдания, связанное с концентрацией интереса на подобных отклонениях, последующий откол болезненных явлений-следствий от конфликтов, их породивших, и превращение этих явлений-следствий в самостоятельное заболевание всегда знаменуют собой своего рода окончание внутренней борьбы и, по меньшей мере, временное успокоение (даже если это действительно тяжелое соматическое заболевание). И это понятно, т.к. больной имеет, прежде всего, то, что хочет: конверсию, т.е. видимое на внешнем плане заболевание вместо душевного страдания и, тем самым, правдоподобное для самого себя и мира объяснение и оправдание, почему он не может продолжать развитие. Более того, больной получает теперь желанное сужение и ограничение своего всегдашнего чувства неполноценности на какой-то одной функции или части тела и наглядную, по всей видимости, доступную арену действий для продолжения борьбы за возможность самовыражения и поднятия духа. Арена борьбы переместилась, так сказать, из непроходимых ущелий и расселин центра страны на периферию, таинственное внутреннее противоречие стало – как уже говорил ШЮЛЕ (SCHUELE) о бредовых идеях и стереотипиях – пластичным, оно получило свой вид и язык. Подобно подзаголовку книги или символической фигуре над входом, явления-следствия душевного конфликта, ставшие болезнью, отражают его содержание или подводят нас к его разгадке. «Если ты это знаешь и знаешь, о чем спросить врача, то тебе смысл откроется!»
Я хотел бы привести один пример. Чтобы не выдать мою пациентку, мне придется прибегнуть к некоторым иносказаниям. Двадцативосьмилетняя женщина, незаконнорожденная, жена простого рабочего фабрики и мать двоих детей, рожденных до замужества (они пристроены), страдала клептоманией. Желание украсть было у нее болезненным, т.к. было направлено не на присвоение чужого имущества, а на удовлетворение неукротимого навязчивого желания делать что-то запретное, тайное, опасное, предосудительное. Как нам известно, это тайное и предосудительное является эрзацем не всегда осознаваемой больным сексуальной потребности, потребности делать назло, потребности в покаянии и т.п. Такие люди не пользуются украденными предметами, они их складируют (пуговицы, блузки, чулки, шелковые ленты) и прячут от третьих лиц, так что посвященным сразу видна бессмысленность и болезненность подобных краж. Следует добавить, что большинство клептоманов является в остальном порядочными людьми, и они могли бы сделать много полезного, если бы их не мучил постоянно вопрос: «Я должен или не должен?» Исследования показали также, что приступы желания украсть порождают сильное чувство страха, которое, если не удовлетворить желание украсть, может усилиться до проливного пота и страха смерти. Конечно, такое бывает у больного не каждый день, так же как упрямец не всегда только и делает, что упрямится, а у гетеросексуала медовый месяц не длится всю жизнь. Вне сферы душевного разлада, или, как сказали бы последователи ФРЕЙДА, комплекса, выражающегося в определенные – то большие, то меньшие – периоды в навязчивой потребности украсть, что попадается на глаза или «плохо лежит», клептоман правильно оценивает события и действует по своей воле. Если это так, то его клептомания – не чисто нервное, невротическое явление, а следствие и сопроводительный симптом душевного заболевания [ Это мой ответ на реплику специалиста, что, если человек крадет, не зная, зачем и если его охватывает страх смерти, если он не украдет, то такой человек, разумеется, душевнобольной ]. Но у нашей пациентки этого не было. Она не крала малоценные вещи, она крала деньги и, хотя она жила довольно бедно, но всё же упорядоченно, она эти деньги не тратила и не копила, и не клала под проценты, а тратила с чрезмерным рвением на подарки детям (сладости, игрушки, носовые платочки), причем не своим или соседским, а чужим. Когда она это всё дарила, у нее возникало чувство одухотворенного счастья, усиливающееся до состояния экстаза. Именно это состояние экстаза и выдавало ее, по этому состоянию люди и определяли, что она что-то украла, хотя никто не жаловался и расследования не проводили. По нашим сведениям, ее охватывал настоящий восторг, потому что она могла дарить, осчастливить кого-то, как бы ни были ничтожны дары. Она упивалась мыслью, что богата и может дарить, т.к. она была добра и щедра, а что касается богатства, то она поняла, что оно дает возможность звать гостей и доставлять им радость, и это она считала главным его преимуществом. Она вспоминала с благородным презрением своих одноклассниц, более богатых, которым она с удовольствием уже тогда подала бы пример. Они были лучше одеты, их словарь был изысканнее, чем у детей бедняков, к которым принадлежала наша пациентка. Но как они были надменны, нелюбезны и жадны! Наша пациентка была, безусловно, начитанной девушкой, она мечтала о великих куртизанках XVIII века, некоторые из которых выбились из низших слоев общества и достигли власти, всеобщего уважения и высокого общественного положения. С досадливой злостью вспоминала наша больная учителей, отдававших предпочтение детям богатых родителей. На пике восторга нашу пациентку охватывало невыразимое чувство горечи и беспросветности. У нее было чувство, словно она должна отдать последнее, что у нее есть, и затем всё разрушить, весь несправедливый мир и себя в том числе. Когда она возвращалась домой, то ее всё еще приподнятое настроение могло превратиться в свою противоположность. Она становилась раздражительной, недовольной по любому поводу и начинала браниться. Она успокаивалась лишь тогда, когда ее муж тоже приходил в ярость из-за того позора, который должна была терпеть семья клептоманки. Муж упрекал ее и даже, бывало, бил. Когда всё было позади, пациентке казалось, что бессильный гнев мужа с рукоприкладством был ее величайшим триумфом и конечной целью всех ее краж. Дело в том, что муж был в повседневной жизни мягким и терпеливым человеком, и она ненавидела его беспомощность, кротость и слабость настолько же, насколько любила в нем чувство справедливости, порядочность и, прежде всего, тягу к знаниям. Когда он стоял перед ней, сжав кулаки, со сверкающими глазами, вне себя от ярости, ее тянуло к нему, и она думала: «Вот это настоящий мужчина!»
Поскольку эта пациентка не была ни слабоумной, ни душевнобольной, ни морально ущербной, то и вылечить ее не составляло труда. Уже после короткого расспроса она сама поняла, что воровала для того, чтобы иметь возможность кого-то одарить и осчастливить, и что желала ссоры с мужем, чтобы видеть его решительным, жестким и сильным и его таким образом возвысить. Так было дано направление врачебной воспитательной работе. После того, как пациентка осознала всю наивность и смехотворность средств, при помощи которых она хотела достичь целей, в общем-то, похвальных, придававших ее существованию больший смысл, она быстро поняла также, что этих целей можно было достичь по-другому, проще и вернее. Она поняла, что надо, прежде всего, обратить материнскую любовь и заботу на своих собственных внебрачных детей, забрать их от людей, у которых они воспитывались. А ее желание победить несостоятельность мужа, подтолкнув его к энергичным действиям, выразилась в том, что она сыграла на его тяге к знаниям и побудила его пойти на курсы повышения квалификации и начать изучать иностранный язык. При этом ее решение взять детей к себе возымело чудесное действие. Оно заключается в следующем. Это ее решение предполагало в муже понимание и уважение ее материнских чувств, это побудило мужа понять эти чувства и согласиться с ними настолько, чтобы ее планы стали его планами. Кроме того, тем, что муж на это согласился, он доказал, что очень привязан к жене и согласен взять на себя обязанности, которые даже ей самой раньше казались не по силам. Следствием такой сильной привязанности и дружбы стало то, что муж в скором времени стал уважаемым членом коллектива, получил ответственный пост, а впоследствии занял высокий пост как государственный служащий. Оглядываясь назад, наша пациентка поняла, что у нее с детства было чрезмерное честолюбие, она никогда не могла смириться с той социальной ролью, которую занимала, она всегда была недовольна, раздражительна и подозрительна. Она не терпела никаких упреков и замечаний, хотя сама постоянно готова была делать их окружающим. Ее ненависть к обществу достигала такой степени, что она временами совершала кражи (о которых сама впоследствии сожалела и которых стыдилась) в качестве мести обществу, она считала эти кражи более или менее справедливым наказанием людям за то, что судьба к ней, по ее мнению, неблагосклонна. Подобные настроения, досада, взрывы зависти и желания мстить у нее исчезли, когда она направила свое честолюбие в нужное русло и увидела начало своего социального восхождения.
Читатель может спросить, почему же такая неглупая и энергичная женщина, как наша пациентка, так глубоко и так надолго ушла в фантазии о счастье, в экстатические ощущения, возникавшие после периодических сумасбродных выходок и правонарушений, завершавшихся побоями. Почему она пыталась добиться удовлетворения своих материнских чувств, радости дарить и делать кого-то счастливым такими окольными, неправильными путями. Почему она, желая в своем муже увидеть мужчину своей мечты, мужественного, решительного, бескомпромиссного, сильного, временами доводила его до бешенства. Мы уже говорили о «половинчатости» поведения невротика, в этом его главная особенность. Он идет лишь до половины своего пути (да и эта половина скрыта и видна лишь как аллегория), вместо того, чтобы действовать открыто и недвусмысленно. Как правило, за каждым началом действий невротика, в каком бы направлении они ни осуществлялись, тут же следует неуверенность, усталость и разочарование, так что не достигается даже близко ничего из того, что служило бы выражением личности невротика и развитием ее. Все импульсивные действия, как кратофорного, так и аристофорного характера, уже почти в самом начале подавляются, искажаются и получают такую перверсию, что возникает лишь противоречивость и борьба с самим собой и окружающими, а затем наступает конверсия. Это приносит частичное успокоение и освобождение: конверсия, воспринимаемая как болезнь, с одной стороны, извиняет и объясняет слабость и несостоятельность, с другой стороны, раз и навсегда ограничивает самовыражение личности невротика. Это ограничение выражается в том, что из всех целей и мечтаний невротика преследуются лишь те, которые кажутся возможными при наличии ограничивающей конверсии, а другие, хотя и отвечающие влечениям больного, исключаются из области преследуемых целей, их невротик больше перед собой не ставит. Он их, по меньшей мере, не полностью осознаёт. У нашей пациентки спасительная конверсия проявляется в непредсказуемости и неумеренности аффективных реакций, которые воспринимаются как психопатия или аномалия характера. Они выражаются не только как клептомания, но и как склонность к беспокойству, навязчивым мыслям, мрачному настроению, капризности, вспыльчивости и потере мужества, а, главное, в том, что она отказывалась выполнять материнские обязанности по отношению к своим внебрачным детям, поскольку не предполагала в своем муже, который – она знала это – любит ее, помощника в выполнении родительских обязанностей. Это и понятно: ведь какое же большое облегчение в приспособлении к жизни означает признание ее психических недостатков в, по всей видимости, врожденной предрасположенности! Кто же может обидеться на нее, даже если и считает ее неглупой, за эпизодические эмоциональные взрывы, промахи, сумасбродство и ранимость, слабость духа и неспособность справиться с трудностями жизни, даже за болезненную клептоманию? Потому-то и стало обычным делом, что невротики разного калибра и другие люди, только рассуждающие о жизненных целях, вместо того, чтобы к ним решительно стремиться, охотно кокетничают такими вещами, как врожденные свойства характера, глупость и даже наследственная отягощенность, чтобы только люди их извинили.
Почему же невротик только предпринимает попытки действовать, жить, да и те лишь намёками и аллегориями? Почему имеет место подавление влечений, их искажение, насилие над ними? Откуда противоречивость, усталость на полпути? Подумать только, в нашем случае хватило бы одного слова нашей пациентки, чтобы ее цель была достигнута, т.к. ее муж – а он позже доказал это! – был готов к сотрудничеству, был готов приспосабливаться к ситуации, если бы она только объяснила ему! Но для этого ей надо было сначала понять саму себя и, кроме того, решиться быть собой, а также понять, что муж готов разделить с ней родительские обязанности. Всё это означало бы осуществление ее жизненных притязаний. Однако в наших рассуждениях был один пункт: мы посчитали обязательным условием развития невроза следующее. Внимание пациента отвлекается от действительного конфликта, когда оно концентрируется на аффективных или функциональных нарушениях (обусловленных этим конфликтом), что приводит к фиксации нарушений и конверсии. Внимание пациента отвлекается от действительного конфликта, и этим полностью прерывается связь между причиной конфликта и его воздействием на больного, приводя к полнейшему отщеплению. Недооценивая значения причин конфликтов для конверсии и включая их в число неприкосновенного и неоконченного, мы гарантируем их дальнейшее воздействие на пациента. Кажется даже, что нежелание заниматься ими и с ними бороться, насколько это возможно и необходимо, ясно сознавать причины прочих действий, желаний и волевых импульсов, а не только обусловленных конфликтом, всё ширится и делает, тем самым, непонимание собственной сути непониманием жизни вообще. При этом растет страх перед самим собой и любыми жизненными задачами. Дальнейшим следствием будет то, что всё, к чему душа стремится втайне, в глубине своей, всё снова и снова будет давать о себе знать, и именно потому, что пациент себе это четко не представляет (и поэтому никогда не достигает), и это дает пациенту чувство неудовлетворенности и побуждает его к новым повторным попыткам, а это, в свою очередь, приводит к значительному усилению нервозности, беспокойства, неудовлетворенности и лишает больного определенного направления поведения. Если бы нашей больной понадобилось обоснование ее неуверенности, малодушия и противоречивости, то она сказала бы, что во всем виновато ее происхождение (она незаконнорожденная), ее якобы растраченная юность или ее беда, что она не может вести себя иначе. Такое обоснование скорее пришло бы ей на ум, чем беспощадный мужественный взгляд на саму себя и чем самопознание. Мы вовсе не утверждаем, что она совсем не осознавала своих притязаний, обусловленных ее талантами и стараниями и исподтишка снова и снова проявляющихся, и своего недовольства судьбой. Мы хотим лишь сказать, что она их если и смутно ощущала или ясно понимала, то не считала осуществимыми жизненными целями, к которым следует стремиться. Страх перед разочарованием, скепсис, малодушие, эгоцентризм и противоречивость делали в ее понимании эти цели недостижимыми, так что она отметала всё это как несбыточные мечты и сумасбродство, которые усиленно пыталась забыть. К тому же, она часто затаивала обиду, вместо того, чтобы выговориться, так как ошибочно полагала, что должна быть благодарна мужу за то, что он вообще на ней женился, и, учитывая все эти обстоятельства, ее позор (внебрачные дети) до сих пор оставался с ней. Но стоило ей так подумать, как подавленные импульсы прорывались наружу, и она бунтовала. За скромностью следовал взрыв высокомерия, за обесцениванием и унижением себя и всех вещей следовало их непомерное возвеличивание. Робость перед жизнью сменялась внезапным скороспелым страстным желанием во всем участвовать; застенчивость уступала место хвастливости, печаль – надменности и за пессимистической покорностью судьбе следовало желание сорвать недозревший плод, поменять местами начало и конец и полнейшим образом удовлетвориться ролью, ни осознанно желаемой, ни продуманной и подготовленной, а лишь воображаемой.
Итак, невротику в общих чертах присуще следующее: во всяком деле он мешает сам себе, сам себе всё портит. Он жаждет самоутверждения, наслаждений, счастья, но без упорного труда, разочарований и отказа от чего-то, как это бывает при целеустремленной борьбе за желаемое. Нет, невротик замыкается на себе самом, но не хочет смириться с таким положением, он ищет чистой выгоды для себя – и стыдится этого, затем снова кидается в бескорыстие и самопожертвование, втайне коря себя за это и полагая, что надо бы, в конце концов, подумать и о себе самом. Что бы он ни делал, он как правило, думает, что поступает неверно. Единственным «выходом из положения» было бы действовать одновременно аристофорно и кратофорно, делать хорошее для людей – и себя не забывать. Но такое удается невротику очень редко. Если же он действует лишь в одном направлении, то постоянно чувствует противоположный сковывающий импульс и пожирает себя упреками. Из-за недостатка пробивной силы своих импульсов, невротику приходится снова и снова довольствоваться минутным успехом, вытесненным, в основном, в область представлений (и там разыгрывающимся) и символическими действиями, идет ли речь, как в случае с нашей пациенткой, о неосознаваемой попытке возвыситься или о других истерических механизмах, таких, как заместительные действия покаяния, протеста, самооправдания или вины. Или это истинное наказание, налагаемое на себя самого, когда человек с тяжелым сердцем отказывается идти в гости из опасения, что из-за своего нервного подергивания руки он может кого-то ударить по лицу? Или это однозначно «вредничание», когда жена отказывается идти с мужем в театр, ссылаясь на мигрень?
Мы подошли к вопросу, на чем основана недостаточность целостности и пробивной силы инстинктивной жизни невротика. Это может быть обусловленная соматикой слабость инстинктов, врожденная или приобретенная, неправильное воспитание или притеснения окружающими людьми, непреодолимые препятствия экономического, политического или мировоззренческого характера, снижение адаптации к жизни вследствие соматических нарушений разного рода или их последствий и т.д. Некоторые из этих факторов могут взаимодействовать. В отдельных случаях они все налицо. Что касается неправильного воспитания, то это может быть плохой пример со стороны отца-невротика или невротичной матери, и ребенок должен к ним приспосабливаться, или родители ссорятся, и каждый призывает ребенка стать на его сторону, что приводит к неуравновешенности и разбалансированности душевного мира ребенка. Иногда это бывает требование безоговорочного послушания и подчинения, когда любая инициатива душится в зародыше и когда с юного возраста в человеке погибает желание самостоятельности и ответственности за свою жизнь. Наконец, неправильное воспитание может выражаться в ужасной избалованности, когда каждое желание ребенка тотчас же исполняется, и способность к выдержке и терпению, столь необходимые в так называемой жизненной борьбе, не только не воспитываются, но разрушаются при первом же появлении.
Для врачебного прогноза и лечения не существенно, является ли возникший невроз следствием врожденных задатков, обусловлен ли он соматикой или является приобретенным, поскольку все функции тела, даже клеточный обмен веществ и обмен соков, сон и вся жизнь инстинктов являются, в конце концов, вещами духовными, частично управляемыми большим мозгом и, вследствие этого, испытывают на себе воздействие духа и души, как это мы можем ежедневно наблюдать в жизни. Не удивительно, что они, находясь под воздействием психотерапевтического успокоения и оздоровления, протекают, так сказать, сами по себе более упорядоченно и «экономно». Для лечения не играет роли, являются ли соматические нарушения следствием здорового или невротического аффекта раздражения, страха, отвращения или уныния. Явления, сопровождающие на плане соматики аффекты в широком смысле слова, всё равно относятся к ним (аффектам), ими автоматически запускаются и продолжают свое действие даже тогда, когда давно отзвучал аффект их породивший. Стоит вспомнить, как дрожат колени и краснеют щеки, когда эмоция страха или смущения уже позади. Если же подобное исключительное состояние продолжается какое-то время или превращается в длительный аффект, то функциональные нарушения, вызванные ими, так «пришлифовываются», что становятся привычкой или правилом (нарушения желудочно-кишечного тракта, женские болезни). Однако, повторяем, о неврозах мы еще не говорим в той стадии, когда нарушаются функции организма, даже если причина нервного перенапряжения совершенно очевидна. О неврозах мы говорим в том случае, когда внимание и оценка неуверенного в себе больного, измученного боязливым ожиданием, обращается не на все нарушения в их единстве, а лишь на их соматическую составляющую, а психический компонент при этом вытесняется и маскируется. Это затрудняет врачебное вмешательство и выяснение, а лишь способствует тому, что конверсия достигает уровня самостоятельного заболевания и как таковое встраивается в организм.
Врачу всегда следует помнить, что не надо следовать за невротиком в его толковании, т.е. игнорировать связь с психическим и воспринимать аномалии как органические заболевания. Врачу следует открыть больному глаза на то, отчего он отворачивает свой взгляд, а именно: на конфликт, к которому относятся сопровождающие его симптомы на уровне соматики, эти ставшие пластичными напряженные состояния аффекта. Они так же соотносятся с этим конфликтом, как тихий голос с робким характером или бледность с испугом. Ведь невротик и ожидает от врача, чтобы тот дал ему «зеркало», в котором он увидел бы себя как взбунтовавшийся ребенок и внезапно понял все свои пороки: малодушие, трусость, ранимость-раздражительность и внутреннюю лживость. Больной втайне также чувствует, что это ему не поможет, что он может быть решительным и предприимчивым, даже слишком усердным, чрезмерно храбрым, т.к. больной полагает, что врач знает, что подобные взрывы так же характерны для нервного характера, как лай для собаки, и врач должен знать, что эти взрывы бьют дальше цели, и поэтому ими так же ничего нельзя достичь, как и всё повторяющимися попытками действовать и останавливаться на полпути. А потому психотерапия тогда успешна, когда она воспитывает в больном способность к самопознанию и мужество быть таким, каков он есть.
Перевод Е.Г.Сельской и Е.А.Ходак
Продолжение следует
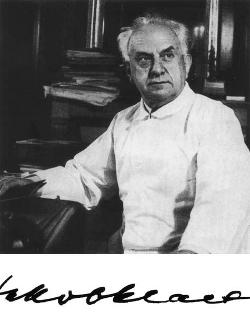 Что за конфликты стоят за невротическими проявлениями? В двух словах – это конфликт между инстинктом самосохранения, стремлением к наслаждению и радости, с одной стороны, и стремлением к строгому исполнению долга, к самопожертвованию, с другой. Всем известно, что у нас есть пищевой инстинкт, половой инстинкт, инстинкт движения и какой-то деятельности, возможно даже, инстинкт самоутверждения – если мы его можем назвать инстинктом, ведь у него отсутствует физический коррелят инстинкта. Но дело в том, что люди идут по жизни не в одиночку, а как члены большого сообщества. Мы должны быть для этого сообщества полезными или, по меньшей мере, сносными, а природа позаботилась о том, чтобы сделать нас сносными, если уж не полезными: у нас есть инстинктивное стремление к тому, чтобы быть членом сообщества, включиться в него, жертвовать чем-то для него, а также чтобы раствориться во вне- или над-персональном. Песталоцци назвал это инстинктом делать добро, а мы теперь называем социальным инстинктом. Выражается он не только в стремлении повиноваться и отдаваться – а это очень важно для понимания неврозов – в сдерживающих факторах, которые мы противопоставляем беспардонному проявлению наших эгоистических инстинктов (пищевого, полового инстинктов, стремления к самоутверждению и т.д.). Я уже в течение восемнадцати лет утверждаю в своих лекциях, что этот социальный инстинкт возник не под воздействием воспитания, более или менее хорошего и заботливого, а вследствие врожденных задатков, направленных не на достижение наших личных интересов, а на благо ближних и общества в целом. В состоянии болезненной изоляции противоречие между социальным инстинктом и инстинктами «Я», которое обычно проявляется в сдерживании нашего стремления к наслаждениям ради интересов общества, может проявляться даже таким способом, что больной против своей собственной личности начинает настоящую войну. И здесь дело доходит до поступков, кажущихся совершенно бессмысленными: больные кусают самих себя, отказываются от еды или едят собственные экскременты. Аналогичное поведение встречается и у здоровых, у некоторых бывают припадки этического рвения, и такие формы принимает аскеза или самоистязание. Другими словами, там, где нет возможности для проявления социального инстинкта (делать добро, отдаваться), как, например, на необитаемом острове, в тюрьме или психиатрической больнице, при шизофрении или при невозможности проявления этого инстинкта по политическим причинам, у этически сильно предрасположенного к этому индивида может возникнуть перверсия социального инстинкта, как и других жизненно важных инстинктов в периоды насильственного подавления. Целесообразный тормоз, направленный против эгоизма и своекорыстия субъекта, превращается в систему принципов и привычек, направленных на выключение и приглушение радости жизни, на самоистязание и самоуничтожение.
Что за конфликты стоят за невротическими проявлениями? В двух словах – это конфликт между инстинктом самосохранения, стремлением к наслаждению и радости, с одной стороны, и стремлением к строгому исполнению долга, к самопожертвованию, с другой. Всем известно, что у нас есть пищевой инстинкт, половой инстинкт, инстинкт движения и какой-то деятельности, возможно даже, инстинкт самоутверждения – если мы его можем назвать инстинктом, ведь у него отсутствует физический коррелят инстинкта. Но дело в том, что люди идут по жизни не в одиночку, а как члены большого сообщества. Мы должны быть для этого сообщества полезными или, по меньшей мере, сносными, а природа позаботилась о том, чтобы сделать нас сносными, если уж не полезными: у нас есть инстинктивное стремление к тому, чтобы быть членом сообщества, включиться в него, жертвовать чем-то для него, а также чтобы раствориться во вне- или над-персональном. Песталоцци назвал это инстинктом делать добро, а мы теперь называем социальным инстинктом. Выражается он не только в стремлении повиноваться и отдаваться – а это очень важно для понимания неврозов – в сдерживающих факторах, которые мы противопоставляем беспардонному проявлению наших эгоистических инстинктов (пищевого, полового инстинктов, стремления к самоутверждению и т.д.). Я уже в течение восемнадцати лет утверждаю в своих лекциях, что этот социальный инстинкт возник не под воздействием воспитания, более или менее хорошего и заботливого, а вследствие врожденных задатков, направленных не на достижение наших личных интересов, а на благо ближних и общества в целом. В состоянии болезненной изоляции противоречие между социальным инстинктом и инстинктами «Я», которое обычно проявляется в сдерживании нашего стремления к наслаждениям ради интересов общества, может проявляться даже таким способом, что больной против своей собственной личности начинает настоящую войну. И здесь дело доходит до поступков, кажущихся совершенно бессмысленными: больные кусают самих себя, отказываются от еды или едят собственные экскременты. Аналогичное поведение встречается и у здоровых, у некоторых бывают припадки этического рвения, и такие формы принимает аскеза или самоистязание. Другими словами, там, где нет возможности для проявления социального инстинкта (делать добро, отдаваться), как, например, на необитаемом острове, в тюрьме или психиатрической больнице, при шизофрении или при невозможности проявления этого инстинкта по политическим причинам, у этически сильно предрасположенного к этому индивида может возникнуть перверсия социального инстинкта, как и других жизненно важных инстинктов в периоды насильственного подавления. Целесообразный тормоз, направленный против эгоизма и своекорыстия субъекта, превращается в систему принципов и привычек, направленных на выключение и приглушение радости жизни, на самоистязание и самоуничтожение.